
Что сразу бросилось в глаза, так это сходство с «Человеком без свойств» (новый Музиль явился):
1) смена эпох и закат империи,
2) огромный объем — 1,5 тысячи страниц,
3) написано в жанре развернутых размышлений — не столько хроника, сколько микс политических, философских и искусствоведческих трактатов и интеллектуальных диалогов,
4) место действия и персонажи — светские салоны и «элита»,
5) все женские персонажи карикатурны,
и наконец
6) ГГ, который считает себя выдающейся личностью.
«У меня – так я думал – всегда в жизни будет такое, чего не было ни у кого, никогда. Я всегда знал, что у меня уникальная судьба. Нет, даже не так, надо сказать еще сильнее: я знал, что не могу смешать свою жизнь и судьбу с чем-то обычным, заурядным. И едва я оказывался в компании с общими интересами, взглядами и шутками – мне делалось не по себе. Никаких оснований для этого у меня не было, у нас простая семья и кровь. … Я чувствовал, что судьба моей семьи – спасти Россию. Не смейся, я знаю, это смешно звучит, но ты не смейся».
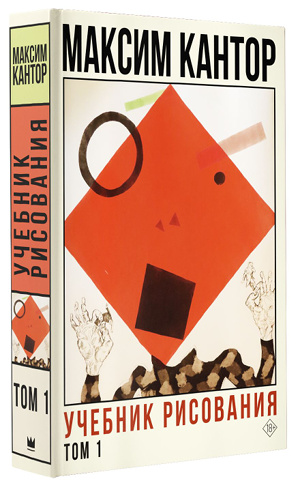
Столпотворение персонажей напомнило гигантские картины Ильи Глазунова «Мистерия ХХ века» и «Великий эксперимент», где среди несметной толпы и Ленин, и Ельцин, и сам художник. Впрочем, автор романа тоже художник, у него свои картины есть. И главный герой — художник. Художественная линия, размышления об искусстве и главки об основах ремесла — самое живое и ценное в книге, я их потом отдельно перечитала подряд.
ГГ чтит традиционное искусство, в противовес авангарду, и надеется, что его картины потрясут и изменят людей. И сам — сплошная русская традиция, до того напоминает Чацкого.
«Огромные холсты, которые он писал в те дни, должны были показать всю структуру общества – и показать детально, до самого потаенного угла. Так он писал большую картину „Государство“, где в центре правили бал властители мира, рвали куски друг у друга из глотки, душили конкурентов; хозяев окружали кольцом преданные стражи и холопы, далее размещались ряды обслуги – интеллигентов, поваров, официантов, проституток. В ряды обслуги он включал и себя, он подробно рассказал, как его обман вписан в структуру обмана большого».
После романа Катаева «Алмазный мой венец» с панорамой дореволюционной, революционной и раннесоветской эпохи, после «Таинственной страсти» Аксенова с панорамой 1960-80-х, этот мегароман показался их естественным продолжением. И сатирический стиль перекликается, и игра с именами персонажей. В рецензиях радостно расшифровывают: Ситный — экс-министр культуры Швыдкой, Тушинский — Явлинский, художник Сыч — Олег Кулик, Гузкин — Брускин и т.д.
Спустя 20 лет читать роман не поздно, даже интереснее. Это попытка не только изобразить, но и объяснить ту эпоху, и можно сравнить объяснения и прогнозы с наступившей реальностью, чего были лишены первые читатели. Автор рассматривает мир комплексно, не проводя границ между, например, политикой и искусством:
«Мир имеет ту политику и таких политиков, которые в точности соответствуют идеалам искусства, которое мир признает за таковое. В конце концов, политика не более чем один из видов искусства, а Платон ставил ораторское мастерство даже еще ниже, называя его просто сноровкой. Искусство – и так было на протяжении всей истории человечества – формирует идеалы, которые политика делает реальными. Наивно думать, будто искусство следует за политикой, так происходит лишь с заказными портретами. Но самый убедительный заказной портрет создают политики – и выполняют его в точности по заветам интелектуалов».
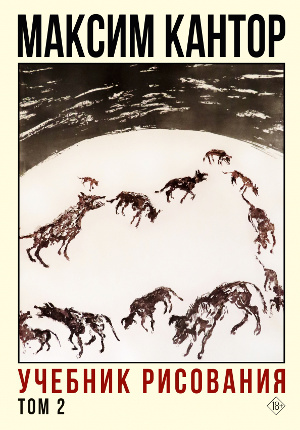
Сам автор в одном из интервью сказал:
«Одна из тем романа – перерождение интеллигенции, ее предательство самой себя. Интеллигенция размылась, перестала существовать. Моя надежда состоит в том, что интеллигенция – та, великая, русская интеллигенция – возродится. Но ей, великой, не пристало жаловаться и бояться критики».
В романе, кстати, предлагается учредить государственный праздник — День интеллигента. Идея классная. Может, уже учредили, а я не заметила.
Еще о современной литературе
«Лепестки» — роман-голограмма
«Моя рыба будет жить»: роман-слоеный пирог
Марафон забытых книжных желаний